МЕНАЖ А ТРУА.
Я участвовал в самых различных треугольниках. И ни один не был похож на другой, как ни одна несчастливая семья непохожа на другую несчастливую семью. Хотя все треугольники похожи друг на друга, как всякая счастливая семья. Я участвовал в самых различных треугольниках, но никогда моя точка не находилась в основании. И даже в треугольниках моих равнобедренных отношений две боковые стороны нисходили ко мне, а я к ним ниспадал. И то, в какую сторону я ниспаду, зависело от малейших флуктуаций.
Я люблю женщин и знаю в них толк, как волк знает толк в поросятах, - только утонченнее. Я по походке отца сужу: даст мне его дочь – или не даст. Но моя проблема-то в том, что я никак не могу определить свою сексуальную практику. И это совсем не праздный вопрос. Вот, к примеру, Венедикт Васильевич Ерофеев не знал – причем не только напрочь, но и абсолютно – как вести себя с захмелевшей. А у меня примерно также, но наоборот. То есть я знаю, как вести себя не только с совершенно пьяной, но и как с в доску трезвой себя вести. И для меня не важно, обниму ли я ее властно правою или, наоборот, левою рукою. Я только спрашиваю свое тело, а обнимать ли мне ее вообще. И тело мне всегда отвечает, что обнимать. А больше мне и спросить не у кого.
Стоим ли мы с ней в коридоре, а она вся в кимоно, пока он спит в их спальне, или мы с ней пьем вино в подворотне, а она мерзнет на ветру, словно ей двенадцать лет, хоть и выглядит лучше, или еще при каких делах мы собрались и болтаем о чем.
И с ним и с ней я познакомился еще до того, как они познакомились друг с другом. В то время я знакомился много и терпеть не мог трезвое состояние. Каждый день я что-нибудь выпивал. И каждый день я с кем-нибудь знакомился. А потом выпивал, когда уже целый час добирался в электричке домой. Я всегда брал две бутылки пива и даже курить в тамбур не выходил. И только домой я заходил уже совсем захмелевшим.
Я тогда учился в Минском институте управления на переводчика. Еще в девятом классе, когда учился в школе, я читал в неделю книгу в оригинале. Я читал и Моэма и «Над пропастью во ржи». Мой учитель английского был одержим своим предметом. Круглый как колобок, с огромными крестьянскими руками. Когда я смотрел на них, всегда пытался представить себе, как он мог играть на скрипке, например. Это чудовище делало по утрам зарядку и со всем крестьянским пылом бросалось к изучению своего предмета. На старом транзисторе он записывал новости ВВС. На занятиях там едва можно было различить слова, но через год уже я слово в слово снимал текст с пленки. Через год уже я научился мыслить по-английски и нормальную речь понимал раньше, чем она звучала. Ни один преподаватель в институте меня не мог ничему научить. Я не ходил ни на лекции, ни на семинары, но в институте был каждый день.
Каждое утро родители давали мне денег на поездку. Еще на вокзале я покупал пиво и мерзавчик. Я тогда одевался как классик. Я носил рубашки, не застегивая верхней пуговицы, брюки и жилетки. Но никаких хэмингуевых свитеров с высоким горлом, я не носил джинсы. Я одевался элегантно, как Дэвид Боуи. В заплечнике – бутылка водки и я прикладывался к ней и закладывал за воротник и на переменах и между переменами.
Чем и впечатлил Шурика до самых его оснований, с головы до пят. Шурик вырос в теплых семейных отношениях под светом настольной лампы в атмосфере всепрощающей нежности. Даже в двадцать лет ему не надо было бриться. И даже в двадцать лет ему нечего было прощать. Когда мы с ним познакомились, ему нечего было рассказать о себе. Шурик всю дорогу болтал о футболе, о своем домашнем попугае и аквариумных рыбках. Он никогда не жестикулировал и сдержанно улыбался. Улыбался как будто его принуждали. Одевал обычно брюки с такими стрелками, что даже если он садился, они сохранялись. Он носил пиджак.
Знакомство со мной его жестоко изменило. Месяца два Шурик все ходил и приглядывался вокруг да около. Молчал. Отмалчивался в курилке и на парах. Хотя время от времени я замечал его занятым какими-то странными делами. Однажды он ходил и пытался пристроить котенка в хорошие руки. Кстати, пристроил: к Рите-наркоманке: когда ее муж отсиживался за торговлю героином, на который тот и подсадил ее от неземной любви, Ритка заболела токсоплазмозом.
Потом еще Шурик ходил в сортир на переменах. А когда не ходил, доставал из рюкзака огромное красное яблоко и ел его, оставляя большой огрызок. Оленька – моя самая любая шлюха на свете, ни одну шлюху я не буду любить, как ее, - подбегала к нему хорошо пахнущая сигаретами и дурным парфюмом и задорно, как Пеппи, говорила:
– Дай укусить!
На что Шурик по-чиновьичьи рылся в рюкзаке (его папа был большой градостроительный начальник) и доставал еще одно яблоко. Иногда он подходил ко мне. Пересказать анекдот, который, по-видимому, ему рассказал его отец. Это были политические анекдоты о Ленине, Сталине и Брежневе.
Но, признаться, Шурик так никогда и не ожил. Сейчас он занимается плаванием и хорошо питается. Я думаю, он проживет долго.
Но вот Оленька была живой. Еще с первых лекций она мне рассказывала о своих любовниках. О летчике из Киева, о студенте-архитекторе, который проходил практику у нее во дворе, о деятикласснике-соседе, который убирался у нее в квартире, мыл полы, пылесосил, иногда готовил яичницу в неглиже. Нужно ли говорить, я ее обожал. Она все это рассказывала, ухахатываясь громким шепотом мне на ухо, и рука ее не унималась у меня на коленах и между колен.
Я никогда с ней не целовался. Просто однажды Оленька пришла на занятия и привычно рассказывала, перекидывая ногу за ногу, сверкая по сторонам своей ****ой. Она легла на парту, то и дело сползая ко мне на колени всеми своими прелестями и руками. А потом поманила пальцем и мы пошли в туалет.
Мы закрылись в кабинке и она стала передо мной на колени, как перед богом, и расстегнула ширинку. Она взяла меня одной рукой за жопу, а другой она держала мой *** у себя во рту и целовала в его основании и везде вокруг. Я знаю, она меня любила. Я знаю это чувство, и я люблю его так же, как и она. Она схватила его губами и щеками, и глоткой и оплела свой язык вокруг всего него, сверху и донизу, и то, как двигалась ее голова, говорило мне о многом. Это была не пассивная ****а. Оленька надувала о него пузыри и хваталась за него двумя руками, будто в древней надежде выхватить у меня его. Она пила меня всего и чуть не захлебнулась, я заполнил ее всю изнутри, я заполнил ее всю внутри своим белым сиянием, и вся ее голова от этого белого сияния светилась изнутри. С полным ртом она глубоко поцеловала меня в губы. И я целовал ее так же глубоко…
Я и задыхался и хотел курить. Оленька нежно застегнула меня и сказала, мол, иди давай. Поправляя воротник, я вышел из туалета. Я хотел курить и шел к выходу из здания со слабостью в ногах и истомой в ногах и между ногами, когда подошел Шурик с новым анекдотом о Чапаеве.
– Пошли, - говорю ему, - покурим на улицу.
Когда я вышел на улицу, солнце светит ярче и сквозь голые ноябрьские ветки проходят, как и ветер, солнечные лучи, останавливаясь на желтых и красных листьях, свернутых, которые сочно шумят под ногами. Когда мы заходим за угол и Шурик бормочет какие-то глупости, я открываю свою бутылочку и делаю три или четыре мощных глотка. И меня передергивает всего изнутри наружу, как бывает иногда, когда очень приятно помочишься, и также запрокидываешь голову к богу.
И то, как я лихо выдул эти восемь глотков, ударило ему в голову. Ударило ему в голову года на полтора, а потом все прошло. На следующий же день Шурик побежал за двумя бутылками вермута и предложил устроить пленер у сточных вод безмятежной как белорусская душа, реки Свислочь. К четырем часам, когда мы расположились на лавочках, растуманилось и мы в липком тумане попивая, болтали между делом, и я ему рассказывал о своей доле, о жизни своей, оставляя его под впечатлением. Мои слова запали ему в душу; скоро я заметил, что он говорит моими интонациями и моими же словами. И так же, как он тогда полюбил меня за это, он стал меня потом ненавидеть и открещиваться, отнекиваться от меня.
Через полтора года Шурик перешел в иняз и мы стали реже видеться, когда он понял, что во мне ошибся. Он стал обыкновенным буржуа, как и его папашка. Шурик растолстел едва ему стукнуло за двадцать, его благополучие свисало у него над ремнем, ни одна болячка его не брала. Он несколько раз ездил за границу. По-моему два раза, но это ничего ему не дало. Ему там все не нравилось. Ни Англия, ни Германия, ни Франция, ни Америка… Ему там вообще ни *** не нравилось: ни пиво, ни бабы, ни жратва, ни дурь. Два раза он возвращался из-за границы и начинал ныть, как там все плохо, что барбизонские крестьяне не знают о существовании его родины и всерьез иногда предполагают, что это бывшая их африканская колония. Еще ему не нравилось, что там у них все нечестно улыбаются и не понимают его шуток, толстые и тупые. И другая гнусь.
Но в то время он еще был очень стерильным и хотел раскрепоститься. Он считал, что для этого нужно пить и курить дурь. Телефон его домашний очень прослушивался и для конспирации траву он называл грас. Шурик, конечно, так никогда ничего и не покурил. Ни травы с ведра, ни гашиша с бульбулятора. Но теперь я понимаю, что ему этого и не нужно было, нужно было ему только создать видимость, что он взрослый мужчина и занимается взрослыми делами. Он развернул бурную деятельность. Каждый день, то есть, когда он приходил домой и мама его уже накормила до отвалу, он, как онанист, запирался у себя в комнате, а может он еще и дрочил, я не знаю, но думаю, что дрочил, или в туалете устраивал свою жопу на евроочке и звонил мне, пьяному и голодному. Полушепотом и конспиративно он спрашивал, достал ли я траву. Он говорил:
– Привет, – шептал он в трубку, как педик.
– Здорово.
– Ну как? – спрашивал.
– Нормально, - говорю.
– Достал?
Тут я обычно включал дурака и спрашивал:
– Что достал?
– Ну это… – все так же томно не унимался Шурик.
– Что «это»? – бойко не унимался я.
– Ну, о чем мы сегодня говорили…
– Так, - говорю, - мы сегодня много о чем говорили. Напомни, пожалуйста, о чем именно.
– Ну об этом… об этом… - надо полагать, что в этот момент Шурик оглядывался по сторонам или прислушивался. И потом нежно и умоляюще произносил:
- Как насчет… грас?
Шурик конспирировался, его папашка был большим градостроительным начальником, телефон прослушивал Комитет. А папашка его вечно прибеднялся, каждый год меняя БМВ на Пежо. Или на Мерседес. Постоянно строил из себя нищего и, я уверен, считал, что я завидую его семье и ему, придурку. Этот крестьянский папашка из деревни насилу дорвался к власти. Я так думаю, он из штанов выпрыгивал, чтобы начальником стать. Меня он считал обсосом и когда в меня влюбилась его младшая дочка, он негласно запретил мне приходить. Он говорил, что ему тут халым-балым не нужны. Халым-балым – это я. Точно не знаю, но по-моему, он считал меня бастардом…
Но я видел походку этого вредного папашки. Даже в тройке он ходил, будто за плугом, и словно свеклу прорывает. Так что я знал, что делать с его девочкой. Еще у папашки была больная спина и как-то один раз, когда он работал электродрелью, загнал в глаз металлическую стружку. Его оперировали несколько раз. Каждый год у него отслаивалась сетчатка и он на две недели ложился в больницу. После операции ему приходилось несколько дней подряд лежать лицом вниз. То есть несколько дней кряду этот взрослый мужик беспомощно лежал жопой кверху. Я даже приходил на это посмотреть. Сперва он лежал к подушке лицом и канючил, как ему плохо, что он болеет. И вдруг он поднял свою голову от подушки и одним глазом уставился на меня. Ему стало дурно…
Я не стал ждать, когда папашка вернется из больнички, а целыми днями напролет развлекался с его девочкой, которая с каждым днем все больше становилась моей. Мамане и дела никакого ни до кого не было, она целыми днями пила кофе со своим разукрашенными климактериальными подругами. Их увядающие взгляды были полны спокойной страсти и я до сих пор жалею, что не был ни с одной из этих женщин. Они были мудрые. Взять, к примеру, мою нынешнюю подругу Алену. Пока что она дура-дурой, но я точно знаю, что через десять лет я буду бояться ее потерять. А через двадцать, она меня и так бросит.
То ли дело мужчины. Взять, к примеру, Шурикиного папашку. Капризный и взбалмошный, после возвращения из больнички, он свою дочку не узнал, а меня так и вообще на порог перестал пускать. Так что с Шуриком мы теперь встречались только в институте. А потом встречались все реже. Тем более, что он начал встречаться с Наташкой, которая его лишила девственности. Я не знаю, как у них развивались события, но сейчас они уже снимают квартиру, она работает и учится.
Наташку я знал давно, но не очень. Я познакомился с ней до того, как с ней познакомился Шурик. Не то чтобы она была огнем моих чресел, но она мне нравилась, была очень миловидной (sic).
Я не помню, как с ней познакомился. Но расскажу, что у нас было на вечере выпускников. Я встретился со своими одноклассниками и мы, как водится, вскладчину купили водки и еще что-то из несущественного, не помню что. Каждый кто как мог выгораживался друг перед другом. Все подаставали мобильные телефоны и говорили о своих будущих перспективах. Что дало мне возможность спокойно нарезаться и приставать к девушкам. Одна из них и была Наташка. Тогда она уже и работала, и училась, и встречалась с Шуриком, и жила с ним на квартире. Я был очень пьян и плохо помню, что я ей говорил. Надо полагать, что объяснялся в любви, кричал о любви неземной. Что же я еще пьяный могу делать? Обычно я веду себя именно так. Объясняюсь в любви. По-моему мы целовались. Я не помню. Она еще предлагала найти кого-нибудь, чтобы меня проводили домой, но я не согласился. А просто стоял и шатался в фойе дискотеки, наверняка, думая о себе не бог весть что, что не бог весть какой я разудалый парень. Я хотел ее тогда.
Потом мы не виделись очень долго и только через третьих лиц я узнавал что-нибудь о Шурике и Наташке. Несколько раз он звонил мне, приглашал в гости. Я не ехал.
У меня уже была тогда совсем другая жизнь. У меня тогда уже была Алена. Это был совсем уж другой коленкор. И до Алены у меня уже все было по-другому. Были другие женщины и мужчины. Некоторых я даже не знал по имени. В новогоднюю ночь, то есть с тридцать первого на первое две тысячи уже не помню какого года у меня была пьяная женщина, а я ее ни капельки не знал. И она меня не знала. Я только видел ее лицо с красными щеками и с инеем на ресницах и бровях. Ее фигура не угадывалась под шубой. Мы просто взглянули друг на друга и все поняли сразу. Она просто взглянула на меня и я пошел за ней след в след сквозь падающий снег. Мы обогнули здание Дома культуры и притаились, как притаилась новогодняя ночь, глядя друг другу в глаза. Она встала передо мной на колени. Изо рта ее шел пар. Огромные хлопья снега шапочкой ложились на ее простоволосую голову. А потом она ушла и больше я ее не видел.
Алену я вижу каждый день. Мы с ней ходим в кино, книги покупаем. Ну и ****ся, конечно же. Так часто, как видимся. У нас нет физиологических роздыхов и контрацептивных раздумий. Я наслаждаюсь ей.
Когда в Минске шел показ фильма Эмира Кустурицы «Жизнь как чудо», мы пошли. И встретили там Шурика и Наташку. Потом пили пиво в соцреалистической подворотне на ветру. Болтали, прижимаясь друг к другу. Алена пошла на остановку, мы втроем в метро. Наташка уговорила Шурика пригласить меня переночевать. Мы купили водки, крабовых палочек с майонезом и я согласился.
Но весь вечер они надо мной издевались. Оказывается, у них была полная откровенность, как у Натали с Пушкиным, а он плохо кончил, как заяц. Наташка ему все рассказывала. И теперь весь вечер Шурик ходил довольный, что его женщина желанна и верна. А Наташке нравилось быть занятой женщиной и нравиться другим мужчинам. Они были развязны со мной и угодничали как с холуем. Они мне показывали какое-то интеллектуальное дерьмо, подливали водки услужливо и часто, как я люблю. Что бы я ни сказал, Наташка восхищалась:
- Все! Я тебя люблю!!
В беседе она защищала меня. То Шурик начнет заступаться за меня. То Наташка интеллектуально впряжется за меня. Они бегали передо мной на цырлах…
Спать я ложился после полуночи злой и никчемный. Только я лег в постель, водка стала проситься назад и начались вертолетики. Мне было больно и обидно. Пол ночи я провел в сортире, а пол ночи я вообще не спал.
Утром к моей кровати подошла Наташка и тронула за плечо. Я сказал, что уже не сплю и поднялся. Наташка ушла в кухню готовить мне завтрак; мне нужно было уезжать.
Я прошел через их спальню на балкон и закурил. На диване с голой жопой спал Шурик, раскинув ноги по дивану от билки до билки. Был туман и перед моими глазами не было никакой перспективы. Даже нижние этажи не было видно. Я был еще пьян.
На кухне я выпил четыре кружки чая и три яйца. Наташка дала мне с собой яблок и денег на маршрутку. Мы стояли в коридоре. Она была одета в кимоно. Она скрестила руки и оперлась плечом и виском о стену. Она смотрела на меня. Я не узнавал ее сейчас. Она изменилась за ночь, она была как-то серьезна. Ее волосы были растрепаны как всегда с утра, две пряди сонно легли по щекам. На груди ткань натягивалась под вздохом. Я поцеловал ее и Наташа мне ответила, я обнял ее. Я почувствовал ее под собой в моих руках; вышел на площадку, закрыл дверь и сел в лифт и поехал вниз.
 Ножки классные.
Ножки классные. Форум
Форум


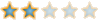

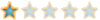



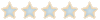
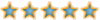


 Черчилль
Черчилль

